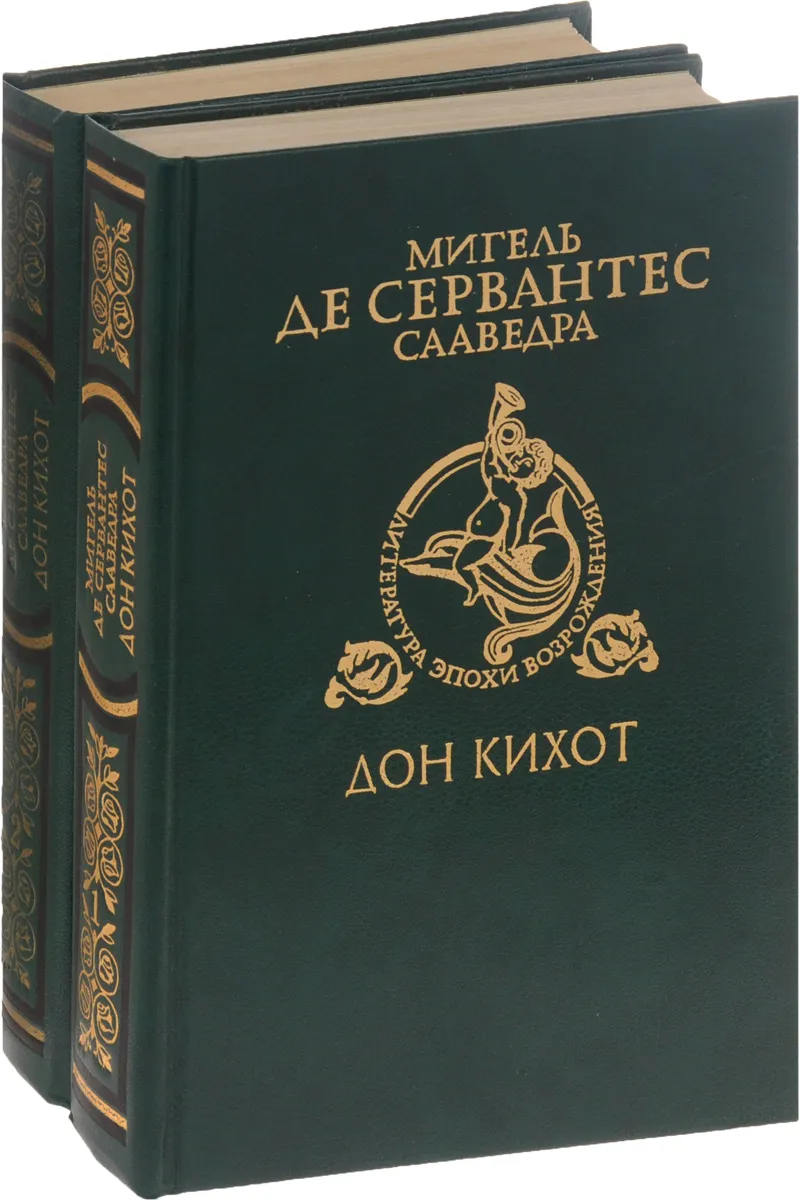Entry tags:
Доны Кихоте - настоящий и поддельный
Два года назад я прочитал-таки первый том "Хитроумного идальго дона Кихоте Ламанчского". (Потому что он на самом деле дон Кихоте, а не Дон Кихот.) И с тех самых пор читал второй том по принципу "сколько откушу" - отвлекаясь на иные книжки, по главе, по две... Но всё на свете, имеющее начало, поимеет и конец - таки ж дочитал.
Второй том имеет "свое лицо". Прежде всего, это жгучая ненависть автора, Мигеля де Сервантеса Сааведры, к сочинителю "Второй части хитроумного идальго дона Кихоте Ламанчского", назвавшего себя Алонсо Фернандес де Авельянеда - подделке, выпущенной ловкими издателями на рынок после успеха первой части романа, чтобы собрать денег с доверчивых и неразборчивых читателей (до первых законов о копирайте оставалось исчо лет 300...). Пролог начинается с поношения этой книги и ее автора, каждые глав десять их поминают недобрыми словами, и завершается том целой страницей гневной отповеди "Сида Ахмеда Бен-инхали" своему врагу.
В общем, в борьбе за проценты от продаж дон Мигель был беспощаден. Что же до всего остального, то вторая часть имеет несомненные достоинства даже по сравнению с первой. Например, почти совсем исчезли вставные новеллы, а те, которые исчо есть, скукожились до нескольких страниц. Зато больше времени отведено главным героям, дону Кихоте и Санчо Пансе. Причем ежели в первой части они по глупости "хитроумного гидальго" в основном получали по шеям, спине и прочим частям тела помягче, то теперь "раскрывается глубокий психологизм" их образов.
То бишь, Кихоте и Санчо оказываются в ситуациях, когда не нужно принимать неизбежные побои, а следует делать выбор, и в нем они "раскрываются". Гидальго уже намеренно подвергают всяким приколам и испытаниям (он ведь теперь личность известная, и все делают вид, что потрясены встречей), пытаясь "сбить его с пути рыцарского" всякими девицами, мирской славой и тому подобными "заманухами", но он "шествует путем добродетели", не сворачивая в сторону ни на шаг. Сачно же подвергают испытанию властью и богатством, однако он, сломя голову, бежит от своего губернаторства совсем не из-за страха (врагов-то "типа прогнали"), но от того, что "не для нормального честного и простого человека всё это".
Что же до тех, кто эти розыгрыши устраивает, в первую очередь герцога и герцогини, то... В советском литератОрАведении, например, принято было считать их отрицательными персонажами, "унижающими человеческое достоинство дона Кихоте". Однако ж как они их с Санчо "унижали"? Кормили, поили, одевали, дали денег. Ну да, пару раз заставили Пансу лупцевать себя по мясам, но уж в XVI-то веке хозяева слуг лупцевали так, что по сравнению с этим "на самом деле просто пошутили". Да, налицо высокомерное и снисходительное отношение к "шуту гороховому" и его клоунскому слуге, но "кодекс поведения благородных особ" предписывает выказывать внешнее добродушие, быть щедрыми и пр.
В остальном же роман - по-прежнему "энциклопедия жизни Испании начала XVII века", со многими типичными того времени персонажами: изгнанные, но прокравшиеся назад мориски; разбойники с большой дороги; странствующие фокусники-прохиндеи; дуэньи, лакеи и слуги; трактирщики, погонщики, цирюльники, бакалавры и лиценциаты; "веселые поселяне" и многие иные. 400 лет прошло, а все они "как живые" - главный, наверное, индикатор того, что произведение стало "бессмертной классикой".
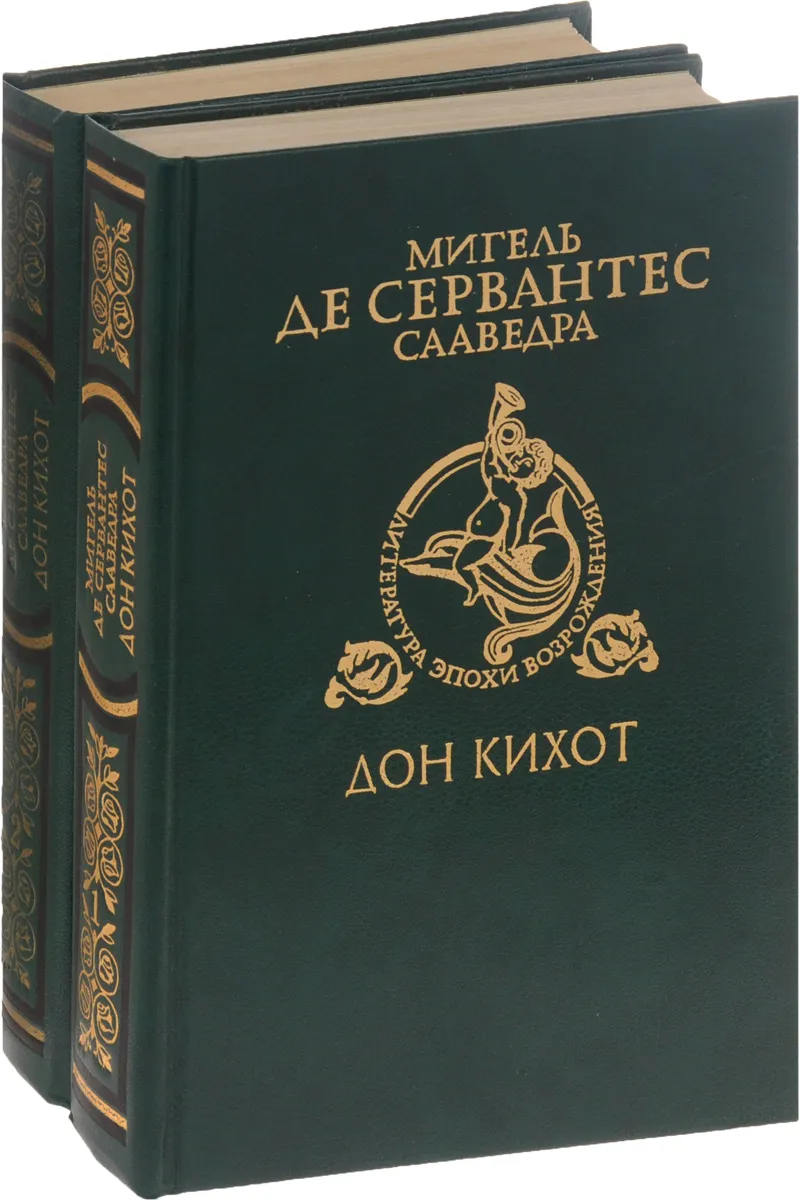
Второй том имеет "свое лицо". Прежде всего, это жгучая ненависть автора, Мигеля де Сервантеса Сааведры, к сочинителю "Второй части хитроумного идальго дона Кихоте Ламанчского", назвавшего себя Алонсо Фернандес де Авельянеда - подделке, выпущенной ловкими издателями на рынок после успеха первой части романа, чтобы собрать денег с доверчивых и неразборчивых читателей (до первых законов о копирайте оставалось исчо лет 300...). Пролог начинается с поношения этой книги и ее автора, каждые глав десять их поминают недобрыми словами, и завершается том целой страницей гневной отповеди "Сида Ахмеда Бен-инхали" своему врагу.
В общем, в борьбе за проценты от продаж дон Мигель был беспощаден. Что же до всего остального, то вторая часть имеет несомненные достоинства даже по сравнению с первой. Например, почти совсем исчезли вставные новеллы, а те, которые исчо есть, скукожились до нескольких страниц. Зато больше времени отведено главным героям, дону Кихоте и Санчо Пансе. Причем ежели в первой части они по глупости "хитроумного гидальго" в основном получали по шеям, спине и прочим частям тела помягче, то теперь "раскрывается глубокий психологизм" их образов.
То бишь, Кихоте и Санчо оказываются в ситуациях, когда не нужно принимать неизбежные побои, а следует делать выбор, и в нем они "раскрываются". Гидальго уже намеренно подвергают всяким приколам и испытаниям (он ведь теперь личность известная, и все делают вид, что потрясены встречей), пытаясь "сбить его с пути рыцарского" всякими девицами, мирской славой и тому подобными "заманухами", но он "шествует путем добродетели", не сворачивая в сторону ни на шаг. Сачно же подвергают испытанию властью и богатством, однако он, сломя голову, бежит от своего губернаторства совсем не из-за страха (врагов-то "типа прогнали"), но от того, что "не для нормального честного и простого человека всё это".
Что же до тех, кто эти розыгрыши устраивает, в первую очередь герцога и герцогини, то... В советском литератОрАведении, например, принято было считать их отрицательными персонажами, "унижающими человеческое достоинство дона Кихоте". Однако ж как они их с Санчо "унижали"? Кормили, поили, одевали, дали денег. Ну да, пару раз заставили Пансу лупцевать себя по мясам, но уж в XVI-то веке хозяева слуг лупцевали так, что по сравнению с этим "на самом деле просто пошутили". Да, налицо высокомерное и снисходительное отношение к "шуту гороховому" и его клоунскому слуге, но "кодекс поведения благородных особ" предписывает выказывать внешнее добродушие, быть щедрыми и пр.
В остальном же роман - по-прежнему "энциклопедия жизни Испании начала XVII века", со многими типичными того времени персонажами: изгнанные, но прокравшиеся назад мориски; разбойники с большой дороги; странствующие фокусники-прохиндеи; дуэньи, лакеи и слуги; трактирщики, погонщики, цирюльники, бакалавры и лиценциаты; "веселые поселяне" и многие иные. 400 лет прошло, а все они "как живые" - главный, наверное, индикатор того, что произведение стало "бессмертной классикой".